ЖАК ГРЕБЕН, ФИЛИПП ДЕПОРТ, ЖАН ЛАФОНТЕН, ФРАНСУА МАРИ АРУЭ ВОЛЬТЕР ]
По страницам журнала "АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ПОЭЗИИ" ]
К 90-летию со дня рождения
художника и переводчика
Вильгельма Вениаминовича ЛЕВИКА
(Первая публикация в журнале "Компьютерная хроника", 1997, № 6, с. 131-166)
Лев Озеров
"ЕГО СВЕТЛОСТЬ - ТАЛАНТ"
Говоря о поэте-переводчике Вильгельме Левике, слова выдающийся, великий - не нужны. В них бывает необходимость лишь в тех случаях, когда нужна натяжка. Он вполне отвечает тому заслуженному имени и той репутации, которая у него была еще при жизни. Сейчас, мне думается, еще больше будет укрепляться и эта репутация и это имя.
Беглый словесный портрет Вильгельма Левика, это и легко и трудно. Легко, потому что это очень ясная фигура. Трудно, потому что деятельность его чрезвычайно разнообразна.
Внешний облик: статен, обаятелен, улыбчив, приветлив, вежлив - исчезающее в нашей жизни качество. Очень внимателен к людям, умеет слушать, а не только говорить. Умение слушать - тоже уходящее качество.
Он был художником и в переводе и в живописи.
Мы часто встречались с ним в его мастерской. Он был прекрасным живописцем. Живопись Левика сочеталась с мелосом, с музыкой. В мастерской всегда звучала музыка. Рядом с мольбертом, с книжными шкафами, столиками, на которых лежали рукописи и словари - стоял стеллаж с пластинками. Он великолепно знал и любил музыку. Как и живопись, она активно участвовала в его творчестве.
Этот беглый портрет нуждается в некотором дополнении. Левик любил животных. В его портфеле всегда была припасена какая-нибудь снедь для бродячей живности, а дома нашли приют и ласку две спасенные собаки и кот.
По натуре художественной - он был возрожденец. Человек энциклопедически образованный, превосходно знавший европейские языки, у него был глубокий интерес и к естественным наукам. В молодые годы он собирался посвятить жизнь естествознанию, но колебался - идти ли ему во ВХУТЕМАС, или стать биологом. К нашему счастью, искусство перевесило. Перевесило потому, что все его существо тянулось к искусству.
Поэзию он любил и был чуток к ней с детства. Стихи начал писать с 8-летнего возраста.
Любовь к животным натолкнула мальчика на выбор книги, по которой он стал изучать немецкий язык. Это была "Всеобщая морфология" Геккеля. Знание зоологической терминологии помогло ему разобраться в сложных построениях немецкого ученого. Не прошло и года, как он стал читать немецкие книги.
В шестнадцать лет, серьезно занимаясь живописью и одновременно углубляя свои познания в естественных науках, он впервые познакомился с поэзией Гейне, прочитав его в оригинале. Был потрясен гением поэта, его личностью, его трагической судьбой. Поразивший его гейневский стих он захотел воспроизвести по-русски и "на одном дыхании" перевел стихотворение - "Зазвучали все деревья".
Многие стихотворения, поэмы Гейне и других поэтов впоследствии правились им, иные десятки раз. Это стихотворение гениально точно легло в его собрание и не изменялось ни в одном слове.
Гейне он любил и знал, как ученый-гейневед. Много приложил усилий, чтобы раскрыть тайну его поэзии. перевод - это еще и исследование оригинала. Четырнадцать тысяч строк Гейне стали достоянием нашего читателя. Поэтические переводы Левика на устах у людей. Это не только "переложения". Надо было пережить каждое стихотворение в оригинале, чтобы оно возникло как перевод. Это чудо, когда чужой текст должен в тебе родиться вторично и стать живым русским стихотворением.
Сколько же таких живых русских стихотворений у Левика!
Чтобы это осуществилось, нужно подлинное искусство. Тут должны соединяться - чувство стиля, музыка стиха, умение живописать словом, общая культура, историко-литературное чутье и прежде всего то, что обозначается звонким и емким словом - талант.
Оригинальных стихов Вильгельма Левика мы не знаем. Он их писал друзьям "на случай", писал легко с присущим ему юмором. Мне думается - живопись заменяла ему оригинальные стихи. Все свое уникальное дарование он подчинил тому, чтобы русский читатель услышал голоса выдающихся поэтов мира.
В Пушкинских "Египетских ночах" Чарский говорит после прослушивания импровизации итальянца - "Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственною, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно..." Мысль Байрона и Рембо, Верлена и Ленау коснулась слуха Вильгельма Левика и стала его собственной мыслью. Он ее не присвоил, а сделал достоянием русского читателя.
Он переводил поэтов разных эпох и народов. И эта встреча иноязычных поэтов в пределах Левиковской мастерской - настоящее чудо!
Трудно перечислить, кому дал жизнь в русской литературе Вильгельм Левик. Как достигается это чудо - знают только сами мастера.
Своей полувековой деятельностью Вильгельм Левик стремился показать, что перевод - это не копия, а портрет, второй оригинал, воплощенный поэтом в стихии другого языка. Перевод, таким образом, становится двойным портретом: автора оригинала и автора переложения.
Бывали случаи, когда живописец прошлого скромно, где-то сбоку, вписывал в групповой портрет и свою фигуру, а подчас она писалась и на первом плане. Достаточно вспомнить фигуру самого Веласкеса на его картине "Игры", или Мазаччо, изобразившего себя на одной из фресок. Так или иначе, сам художник входил в творимый им групповой портрет.
Вильгельм Левик самого себя, разумеется, не вписывал. Ему не посвящен ни единый миллиметр портретного полотна. Но неизбежно, поэт-переводчик масштаба Левика, вписан в сотворенный им групповой портрет.
Есть еще одно важнейшее достоинство в переводах Левика. Он изгонял из перевода невнятицу, даже если она, в известной степени, была присуща оригиналу. Забота о том, чтобы читатель понял все до конца - была одной из главных забот Левика. Он художественный толкователь смутных, невнятных строк оригинала.
Не могу не отметить еще одну привлекательнейшую черту Вильгельма Вениаминовича: его любовь к просветительству.
Сейчас молодое поколение улыбается, когда ему говорят, что у нас Бодлер не упоминался долгие годы. А ведь какие только ярлыки к нему не приклеивали. Но я помню, с какой яростью выступал Левик в защиту поэта, какие доказательные доводы приводил, сколько статей писал, чтобы вернуть поэта русскому читателю. И добился издания стихов великого французского поэта, снабдив этот том своим предисловием.
Просветительством он считал и свои устные выступления. Был желанным гостем во многих, самых разных аудиториях. Его остроумие, непосредственность, его живой образный рассказ, предваряющий чтение стихов, кстати, стихи он читал отлично, делали эти встречи праздничными для слушателей.
Антология Вильгельма Левика вводит читателя в поэтический мир Европы, перевод служит продолжению жизни оригинала. Особенно если устарел язык оригинала. Так возникает обновление.
Благодаря Левику - обновляются Гельдерлин и Шамиссо, Верлен и Рембо, Шелли и Китс, не говоря уж о главных героях его переводческого свода - Гете и Гейне, Шекспира и Байрона, Ронсара и Дю Белле, Бодлера и Камоэнса, Ленау и Мицкевича.
Обновление - ни в коем случае не означает модернизации. Для Левика всегда были священны заветы русских поэтов-классиков, он читал их пристально и влюбленно. Строй их речи он перенял и никогда не взрывал его.
Это важное обстоятельство, утвердившее его имя среди имен тех, кто составил школу русского поэтического перевода.
Поль Верлен (1844-1986)
ИСКУССТВО ПОЭЗИИ
Сначала - музыку! Певучий
Придай размер стихам твоим,
Чтоб невесом, неуловим,
Дышал воздушный строй созвучий.
Строфу напрасно не чекань,
Пленяй небрежностью счастливой,
Стирая в песне прихотливой,
Меж ясным и неясным грань.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ищи оттенки, не цвета,
Есть полутон и в тоне строгом.
В полутонах. как флейта с рогом,
С мечтой сближается мечта.
Сломай риторике хребет!
Чтоб стих был твердым, но покорным,
Поставь границы ритмам вздорным -
Куда ведет их буйный бред?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так музыку - всегда, везде!
Пусть будет стих твой окрыленный
Как бы гонцом души влюбленной
К другой любви, к другой звезде!
И если утро встанет хмуро,
Он, пробудив цветы от сна,
Дохнет, как ветер, как весна.
Все прочее - литература!
Генрих Гейне (1797-1856)
* * *
Зазвучали все деревья,
птичьи гнезда зазвенели.
Кто веселый капельмейстер
В молодой лесной капелле?
То, быть может, серый чибис,
Что стоит, кивая гордо?
Иль педант, что там кукует
Так размеренно и твердо?
Или аист, что серьезно,
С важным видом дирижера,
Отбивает такт ногою
В песне радостного хора?
Нет, во мне самом укрылся
Капельмейстер окрыленный,
Он в груди стучит, ликуя, -
То амур неугомонный.
* * *
Бродят звезды-златоножки,
Чуть ступают в вышине,
Чтоб невольным шумом землю
Не смутить в глубоком сне.
Лес, прислушиваясь, замер,
Что ни листик - то ушко!
Холм уснул и, будто руку,
Тень откинул далеко.
Чу!.. Какой-то звук!.. И эхо
Отдалось в душе моей.
Был ли то любимой голос
Или только соловей?
* * *
И если ты станешь моей женой,
Все кумушки лопнут от злости.
То будет не жизнь, а праздник сплошной:
Подарки, театры и гости.
Ругай меня, бей - на все я готов,
Мы брань прекратим поцелуем.
Но если моих не похвалишь стихов,
Запомни: развод неминуем!
* * *
Вот сосед мой дон Энрикец,
Саламанских дам губитель.
Только стенка отделяет
От меня его обитель.
Днем гуляет он, красоток
Обжигая гордым взглядом.
Вьется ус, бряцают шпоры,
И бегут собаки рядом.
Но в прохладный час вечерний
Он сидит, мечтая, дома,
И в руках его гитара,
И в груди его истома.
И как хватит он по струнам,
Как задаст им бедным, жару!
Чтоб тебе холеру в брюхо
За твой голос и гитару.
* * *
Завидовать жизни любимцев судьбы
Смешно мне, но я поневоле
Завидовать их смерти стал -
Кончине без муки, без боли.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сухотка их не извела,
У мертвых приличная мина.
Достойно вводит их в свой круг
Царевна Прозерпина.
Завидный жребий! А я семь лет,
С недугом тяжким в теле,
Терзаюсь - и не могу умереть,
И корчусь в моей постели.
О господи, пошли мне смерть,
Внемли моим рыданьям!
Ты сам ведь знаешь, у меня
Таланта нет к страданьям.
Прости, но твоя нелогичность, господь,
Приводит в изумленье.
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроенье!
От боли веселый мой нрав зачах,
Ведь я уже меланхолик!
Кончай эти шутки, не то из меня
Получится католик!
Тогда я вой подниму до небес
По обычаю добрых папистов.
Не допусти, чтоб так погиб
Умнейший из юмористов!
ENFANT PERDU
Как часовой, на рубеже Свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Я знал, что здесь мои промчатся годы,
И я не ждал ни славы, ни побед.
Пока друзья храпели беззаботно,
Я бодрствовал, глаза вперив во мрак.
(В иные дни прилег бы сам охотно,
Но спать не мог под храп лихих вояк.)
Порой от страха сердце холодело
(Ничто не страшно только дураку!) -
Для бодрости насвистывал я смело
Сатиры злой звенящую строку.
Ружье в руке, всегда на страже ухо -
Кто б ни был враг, ему один конец!
Вогнал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.
Но что таить! И враг стрелял порою
Без промаха - забыл я ранам счет.
Теперь - увы! я все равно не скрою -
Слабеет тело, кровь моя течет...
Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал - идут другие вслед.
Я не сдаюсь! Мое оружье цело!
Но в этом сердце крови больше нет.
![]()
Открывая для себя в 30-е годы Гейне, Левик открывал для себя и Германию, давшую миру Гете, Шиллера, Канта, Бетховена. Но кроме великой Германии славного прошлого, была другая Германия - настоящего, Германия Гитлера, возмечтавшего поработить мир.
Для многих, те страшные годы войны, свастика перечеркнули все, чем мир обязан Германии, ее народу. Для очень многих!.. Но не для Левика. И когда он из Ташкента бежал на фронт, то не только для того, чтобы воевать против Германии, но и за нее тоже, за ее будущее.
Вспоминает заслуженный артист РСФСР Владимир Борисович Герцик - диктор Всесоюзного радио:
- Я тогда был вызван из Латышской дивизии в 7-ой отдел Северо-Западного фронта на предмет пропаганды немецких войск с воздуха. Приезжаю, не успел обосноваться, вдруг ко мне обращаются со словами: "Взгляните, в нашу часть прибыл гражданский человек" В легком пальто. Насколько мне помнится, была зима. Как выяснилось, у него не было никаких документов. Появление его было в высшей степени удивительным. Когда начальник 7-го отдела его спросил: "Собственно говоря, чего вы хотите?" - Он ответил: "Я хочу воевать". - "Но у вас же нет направления." - Он опять: "Я хочу воевать". - “А что вы можете?” - Ответ - "Я знаю немецкий язык, я переводчик, я рисую, я хочу быть полезным".
Долго думали, - рядили, что делать с этим человеком... Весь какой-то непохожий на обыкновенных; в нем было очень много обаяния и непосредственности. Заключение начальства было следующим: поставить на довольствие. Занятие нашлось. Начальник 7-го отдела решил: "Вы рисуете?" - "Да, я и рисую". - "Ну вот, рисуйте нас, и знание немецкого языка еще очень пригодится".
И он стал нас рисовать. Но самое главное, в свободное время он приходил к нам в землянки и читал свои переводы, в основном, немецких поэтов: Гейне, Гете, Шиллера.
Вильгельм Левик... Надо сказать, что я раньше и не слыхал такого имени, к своему стыду. Но мы поняли, что имеем дело с незауряднейшим поэтом. Он, несмотря на свою некоторую наивность и непосредственность, любил озорные стихотворения. Мы с наслаждением слушали его переводы. Это были поэтические вечера. Для нас они были праздником, совершенно неожиданным. Потом мне рассказывали, он был переводчиком на допросах военнопленных. Затем он сопровождал их в лагеря для военнопленных.
Иные скажут - что это за участие в войне? Повезло Левику? Да, повезло... Очень! Но не ради него самого была милостива к нему судьба в лице начальника 7-го отдела Северо-Западного фронта, а ради всех нас, которым он и только он мог и должен был дать так много. И словно бы сознавая это, словно бы помня об этом везении, он работал изо всех сил, не щадя себя, и сделал грандиозно много.
![]()
Вильгельма Вениаминовича Левика по его блестящим переводам я знаю, конечно, очень давно. А личного знакомства с ним, думаю, можно насчитать лет на восемнадцать. К сожалению, это были не слишком частые встречи и слишком краткие разговоры: они были все время как бы залогом более настоящего знакомства, но так и остались, к сожалению, этим залогом.
Был он как-то у нас дома, подарил нам с мужем книгу своих переводов "Волшебный лес". Помню, тогда он спрашивал: "Как вы думаете, хорошо ли, правильно ли, я назвал книгу - "Волшебный лес"? По-моему, в этом названии есть какая-то таинственность, правда?" - так он и сам себе ответил.
Левик был человек удивительной скромности, огромного обаяния, культуры. И очень демократичный. Очень!
Я убеждена, что необходим Музей Левика, так же, как Музей Чуковского, Музей Маршака. Ведь эти люди занимают особое место в нашей культуре, это поэты многоохватные, предполагавшие в литературе всегда великих других, а не великих себя самих! Они принадлежали к, можно сказать, последним Хранителям огня русской классики. С ними пришла и закрепилась у нас зарубежная классика: я говорю о настоящей, той, которую гениально переводила еще Щепкина-Куперник. Это были гуманисты-просветители - тип, ныне вымирающий. Надеюсь, правда, что "не навек надежды рок унес..."
И Маршак, и Чуковский, и Левик были объединители культур, певцы интернационального, общечеловеческого в народах и в отдельных людях. По-моему, у Вильгельма Вениаминовича эти качества особенно сильно проявились в его переводах Дю Белле, хотя своего веселого Ронсара он любил, помнится, больше.
Я давно начала писать о Вильгельме Вениаминовиче большую статью. Он об этом знал. К великому сожалению моему, я не успела ее закончить, когда мы узнали о безвременной кончине Левика.
Меня, правда, утешает, что его застал в живых мой сонет, посвященный ему, который ему понравился.
Новелла Матвеева
ПЕРЕВОДЧИК
Посвящается
Вильгельму Вениаминовичу Левику
Кто мог бы стать Рембо? Никто из нас.
И даже сам Рембо не мог бы лично
Опять родиться, стать собой вторично
И вновь создать уж созданное раз.
А переводчик - может. Те слова,
Что раз дались, но больше не дадутся
Бодлеру - диво! - вновь на стол кладутся.
Как?! Та минутка хрупкая жива?
И хрупкостью пробила срок столетий?
Пришла опять? К другому? Не к тому?
Та муза, чей приход (всегда - последний)
Был предназначен только одному?!
Чу! Дальний звон... Сверхтайное творится:
Сейчас неповторимость - повторится.
Из сборника "Ласточкина школа"
Жоашен дю Белле
(1522-1560)
* * *
Вовеки прокляты год, месяц, день и час,
Когда, надеждами прельстясь необъяснимо,
Решил я свой Анжу покинуть ради Рима,
И скрылась Франция от увлажненных глаз.
Недоброй птице внял - и в первый в жизни раз
Отцовский дом сменил на посох пилигрима.
Не понимал, что рок и мне грозит незримо,
Когда Сатурн и Марс в союзе против нас.
Едва сомнение мой разум посещало,
Желанье чем-нибудь опять меня прельщало,
И доводы его рассеять я не смог,
Хотя почувствовал, что, видно, песня спета,
Когда при выходе - зловещая примета!
Лодыжку повредил, споткнувшись о порог.
* * *
Я не люблю двора, но в Риме я придворный.
Свободу я люблю, но должен быть рабом.
Люблю я прямоту - льстецам открыл свой дом;
Стяжанья враг, служу корыстности позорной.
Не лицемер, учу язык похвал притворный.
Не лицемер, учу язык притворный,
Чту веру праотцов, но стал ее врагом.
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом,
Друг добродетели, терплю порок тлетворный.
Покоя жажду я - томлюсь в плену забот.
Ищу молчания - меня беседа ждет.
К веселью тороплюсь - мне скука ставит сети.
Я болен, но всегда в карете иль верхом.
В мечтах я музы жрец, на деле - эконом.
Ну можно ли, Морель, несчастней быть на свете!
* * *
3аимодавцу льстить, чтобы продлил он срок,
Банкира улещать, хоть толку никакого,
Час целый взвешивать пред тем, как молвить слово,
Замкнув парижскую свободу на замок;
Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок,
Придерживать язык в присутствии чужого,
Пред иностранцами разыгрывать немого,
Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог;
Со всеми жить в ладу, насилуя природу;
Чем безграничнее тебе дают свободу,
Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму,
Хранить любезный тон с мерзавцами любыми -
Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме
Сполна усвоил я, к позору своему.
* * *
Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живет?
Проснувшись, облачась по всем законам моды,
Час размышляет он, как сократить расходы
И как долги отдать, а плату взять вперед.
Потом он мечется, он ищет, ловит, ждет,
Хранит любезный вид, хоть вспыльчив от природы,
Сто раз переберет все выходы и входы,
Замыслив двадцать дел, и двух не проведет.
То к папе на поклон, то письма, то доклады,
То знатный гость пришел и - рады вы, не рады -
Наврет с три короба он всякой чепухи.
Те просят, те кричат, те требуют совета,
И это каждый день, и, веришь, нет - просвета...
Так объясни, Панжас, как я пишу стихи?
В.Левик
ПЕРЕВОД КАК ИСКУССТВО
Философы говорят, что все познается в сравнении. Говорят еще, что посредством уподобления знакомым предметам человеку можно дать представление о предмете незнакомом. Я сомневаюсь в этом. Однажды мне пришлось рассказывать в кругу друзей, что представляет собою бразильский плод фейхоа. Я сказал, что видом он напоминает маленький огурец, когда берешь его в рот, кажется будто это лимон, когда его начинаешь есть, ощущаешь вкус клубники, а когда все съедаешь, во рту остается вкус горького миндаля. Друзья мои недоверчиво молчали, и признаться, было от чего.
Тем не менее сегодня я буду прибегать к уподоблениям, потому что для развития моей темы - "Перевод как искусство" - этот прием, вопреки сказанному мной, кажется мне весьма плодотворным. Я буду говорить только о поэтическом переводе.
Неслучайно, говоря о переводах, часто обращаются к размышлениям об импровизаторском искусстве. Ведь пока предложенный нам или выбранный нами для перевода материал, а вместе с ним - и чужое переживание мира не стало хотя бы на время нашим собственным, мы едва ли можем рассчитывать на то, чтобы создать настоящее произведение искусства. В лучшем случае это будет создание высокого мастерства, но мастерство, как известно, еще не искусство.
В этом смысле искусство переводчика уподобляется также искусству актера. И актер всю жизнь имеет дело с материалом, предложенным извне. И даже в тех редчайших случаях, когда ему удается сыграть им самим выбранную роль, разве вся драматическая ситуация, душевные конфликты, отношение к жизни, людям, наконец, сами слова не навязаны ему извне? И так же, как переводчику, актеру необходимо со всею силой непосредственного восприятия вообразить, увидеть тот реальный мир, ту живую жизнь, которая стоит за словами, написанными автором.
Подобно тому, как крупный актер узнается в любой роли, хотя в зависимости от роли он меняется тем больше, чем крупней его дарование и следовательно, - чем ярче индивидуальность, так же точно в любом облике узнается и крупный переводчик, конечно, при условии, что он настоящий поэт. А ведь известно, что только подлинный поэт может быть хорошим переводчиком во всем значении этого слова.
Но, как есть актеры, в любой роли играющие самих себя, так бывают и переводчики, находящие в чужой поэзии только самих себя, подчиняющие любой оригинал своей собственной поэтической манере. Таким был у нас в России Константин Бальмонт. Как поэт он был весьма своеобразен и даже значителен, но, переводя, он чересчур "бальмонтизировал".
Разница в том, что актер, играющий самого себя, еще может создать несколько замечательных ролей, но переводчик, видящий в чужой поэзии только предлог для собственных вариаций, невыносим. На каждом шагу он переходит меру, отпущенную переводчику для "самовыражения", и, как всякое нарушение меры, это оскорбляет эстетический вкус.
Мне кажется, что с наибольшей яркостью творческий момент в переводе выявляется при сопоставлении задачи переводчика с задачей художника-копииста. Цель копииста заключается в том, чтобы воспроизвести с наибольшей точностью и во всех деталях то произведение, которое он копирует. Цель переводчика заключается в том, чтобы в авторском произведении и по возможности в поставленных им пределах найти новое выражение для того мира, из которого это произведение родилось.
Но если уж зашла речь о живописи, невозможно уклониться от уподобления, уже ставшего классическим. Говорят, что перевод это не фотография, а портрет оригинала.
Здесь опять-таки подчеркивается момент творчества, и это правильно. Но всегда ли мы, говоря это, помним, что такое определение накладывает на читателя (или, скажем, на редактора, критика) те же обязанности, какие восприятие портрета накладывает на зрителя? В чем заключаются эти обязанности? - В элементарном. Зритель должен понимать искусство живописи. Читатель должен понимать искусство перевода. Как зритель не должен искать в портрете перечисления всех признаков модели, позировавшей художнику (Микельанджело сказал, что через пятьдесят лет никто не будет знать, какой нос был у римского папы), так читатель (редактор или критик) не должен искать в поэтическом (да и в любом) переводе всесторонней информации об оригинале. Искать ее значило бы решать неразрешимую задачу квадратуры круга.
Да и вообще надо помнить, что поэзию как таковую перевести с одного языка на другой невозможно. Можно лишь создать новое поэтическое произведение, похожее на оригинал, как брат походит на брата или ребенок на своих родителей. А если так, то отсюда рождается еще одно требование: перевод должен представлять на своем языке самостоятельную поэтическую ценность. И если, в результате труда нескольких переводчиков, мы получаем несколько не очень схожих между собой, но хороших стихотворений на родном языке, так будем благодарны оригиналу (и, конечно, переводчикам) за то, что они появились.
Здесь опять-таки уместна аналогия с искусством портрета. Едва ли можно сомневаться в том, что Филипп IV на портрете Рубенса похож на свою модель. И то же самое можно сказать о портрете Веласкеса. Но поставьте рядом оба портрета. Так ли уж велико сходство обоих изображений между собой? А если бы король на обоих портретах был одет по-разному - сходство еще уменьшилось бы? Или возьмем Рихарда Вагнера в изображении Ленбаха и Ренуара. Невозможно заподозрить какого-либо из этих мастеров в неумении написать портрет со сходством. Но как мало эти Вагнеры похожи друг на друга!
У наших французских коллег есть традиция переводить стихи прозой. Такие переводы, конечно, очень полезны как информация о содержании оригинала. Но не обкрадывают ли переводчики сами себя, убивая для себя в зародыше всякую возможность обогащать сокровищницу французской поэзии. И станут ли они утверждать, что в поэзии самым главным, ради чего следует жертвовать всем остальным, является элементарное, выверенное по словарю содержание слов? Разве рифмы и ритмы не ставят слова в иное взаимодействие, не придают им новое содержание, сверх того, которое можно узнать, перелистав словарь.
Был момент в истории, когда русская школа перевода ставила во главу угла эту пресловутую точность, калькирование оригинала. Переводчики гордились тем, что даже отдельные слова у них стоят в строке на том же самом месте, что в оригинале. Что положив перед собою оригинал и перевод, можно изучать язык оригинала, настолько полного соответствия слов и синтаксических знаков, удавалось им достичь.
Увы, то, чем они гордились, привело русское переводческое искусство в жалкое состояние. Никогда, ни до ни после не было оно в таком катастрофическом упадке.
Искусству, как и человеку, для того, чтобы всесторонне и гармонически развиваться, необходима свобода. Наши лучшие поэты - они же и были лучшими переводчиками - отлично это понимали.
Свободы для переводчика требовал Пушкин, умевший как никто другой быть близким к подлиннику и передавать его художественную сущность.
Свободы требовал и Жуковский, когда писал, что переводчик поэзии - соперник автора.
Возьмем наше время. Когда Борис Пастернак переводил Шекспира, он писал: "От перевода слов и метафор я обратился к переводу мыслей и сцен". "Работу (речь идет о переводе "Гамлета") надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что помимо точности, равнострочия с подлинником, в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам".
Марина Цветаева писала: "Я перевожу по слуху и по духу (вещи). Это больше, чем смысл". И в другом месте: "Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он".
И как показательны рядом с этими высказываниями великих мастеров перевода теоретические взгляды Афанасия Фета, который был огромным поэтом, но плохим переводчиком. Фет писал (он переводил тогда персидских классиков), что "настоящий переводчик скорее "оперсичит" свой собственный язык, чем допустит какие-либо отклонения от оригинала".
Свобода нужна переводчику не как таковая, не ради удовлетворения его тщеславия, но для того, чтобы он не был рабом детали, для того, чтобы он мог быть максимально верным духу подлинника, добиться портретного сходства в существенном, в главном. Как писал Корней Чуковский, "ямбы надо переводить ямбами, хореи - хореями, но красоту надо переводить красотой". А разве переводчиком, который выбрал оригинал по влечению сердца, не владеет именно это желание (кстати являющееся творческим импульсом и для художника-живописца) - воспроизвести прекрасное (я беру это слово в его философском значении). Иначе говоря - то прекрасное, что объективно уже существует в мире, пережить по-новому - не только воспринимая, но и творя.
В России были замечательные переводчики и до революции. Но это были выдающиеся поэты и писатели. Перевод профессиональный стоял на неизмеримо более низком уровне. И только когда в 40-х годах Кашкин, Чуковский и другие заложили теоретический фундамент переводческого искусства, исходя из принципов, изложенных выше, только тогда стало возможным у нас возникновение переводческой школы, поднявшей это искусство на его современный уровень. Уже не отдельные выдающиеся таланты создают у нас переводы высокой ценности, - неизмеримо вырос общий уровень профессионального мастерства.
И только перевод, основанный на принципе свободы во имя верности, может осуществить высокие миссии переводческого искусства:
1) Обогащать сокровищницу отечественной поэзии.
2) Быть связующим звеном между народами, вести их к дружбе, основанной на взаимопонимании.
Иоганнес Бехер (1891-1958
)* * *
Ответь, ужель мы нежность языка
Узнали в первом материнском слове
Лишь для того, чтобы в потоках крови
Все нежное забылось на века!
Ужель сплотил язык немецкий нас,
Чтобы вражда разъединила снова,
Чтоб немец лгал, толкуя немца слово,
И смысл его в бессмыслице угас!
Иль недовольно плакать на могилах,
И крови прах пропитывать земной
И тосковать покинутым и сирым?
Иль вы лжецов остановить не в силах,
Вы все, кого лишь обольщают миром,
Чтоб друг на друга повести войной?
ВЫСОКИЕ СТРОЕНЬЯ
Я строю стихи. Я строгаю в них строки.
Я в ритм обращаю металл и гранит,
Чтоб фразы воздвиглись, легки и высоки,
В Грядущее, в Вечность, в лазурный Зенит.
Вам, зодчие, вам, архитекторы, слава!
Строители - вам! Основатели - вам!
Вовеки да зиждется ваша держава
И каждый ваш, гением созданный храм!
Я строю стихи. Эти строфы - опоры.
Над ними, как купол я Мысль подниму.
Те строфы - как хмель, обвивающий хоры,
А эти ворвутся как свет в полутьму.
Услышьте, ответьте через века мне,
Вы, шедшие в Вечность по сферам небес,
Стратеги симфоний, разыгранных в камне,
Вершители явленных в камне чудес!
Я строю стихи, сочетаю, слагаю,
Я мыслю и числю всходя в облака.
Я строю стихи, я стихи воздвигаю,
Чтоб гимном всемирным наполнить века.
В.Левик
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
С Александром Александровичем Осмеркиным я познакомится в Москве летом 1924. С детства увлекаясь живописью, я мечтал сделаться художником и решил по репродукциям, что Кончаловский это именно тот мастер, у которого я должен учиться. В Москве я разыскал адрес Петра Петровича и пошел к нему в мастерскую. Кончаловский принял меня с поразительной сердечностью и душевной широтой. Внимательно просмотрел мои многочисленные акварели и несколько работ маслом, попутно объяснял мне, что такое живопись и потом показал десятка два своих холстов. Но на мою горячую просьбу учить меня и подготовить к поступлению во Вхутемас ответил отказом, мотивируя это тем, что он на несколько месяцев уезжает из Москвы.
- А вы пойдите учиться к Осмеркину. Он владеет методом живописи и хороший педагог. Скажите, что это я направил вас к нему.
На следующий день я постучался в мастерскую Александра Александровича в Бобровом переулке.
Осмеркин был тогда еще молод. Мне сразу бросилась в глаза его интересная, какая-то несовременная внешность и некоторое позирование в манерах, в том, как он держался. Он пригласил меня войти в мастерскую, порывистым движением лег на тахту, закинул руки за голову и, мечтательно устремив глаза в потолок, спросил, что меня к нему привело. В ответ на мою сбивчивую просьбу учить меня живописи он сказал: "Зачем это вам? Живописи очень трудно научиться." Чувствуя, что у меня уходит почва из-под ног и мне снова грозит отказ, я пролепетал: "Мои работы видел Бенуа. Он мне советует серьезно учиться живописи. Вот письмо, которое он мне написал". И я протянул Осмеркину отзыв Ал.Бенуа, который видел мои работы за год до этого. Осмеркин усталым жестом взял письмо и, не читая, положил его на тахту. Готовый окончательно расстроиться, я добавил: "А к вам меня направил Петр Петрович Кончаловский". Лицо Осмеркина оживилось.
- Ну, покажите работы,- сказал он. Я стал развязывать то, что принес.
- А что вы любите кроме живописи? - спросил Александр Александрович.
Я недоуменно молчал.
- Музыку любите?
- Люблю. Но еще больше люблю стихи.
- Каких же поэтов вы любите?
- Пушкина, Тютчева и Баратынского, - отвечал я не задумываясь.
Осмеркин издал какое-то странное и громкое восклицание и вскочил с тахты.
- А что вы знаете Пушкина.? Прочтите!
Я стал читать "Роняет лес багряный свой убор". В это время в мастерскую вошел сосед Осмеркина по квартире Лев Александрович Бруни.
- Я его спрашиваю, каких поэтов он любит, - кинулся к нему Осмеркин и показал на меня пальцем, - а он говорит: Пушкина, Тютчева и Баратынского! И он радостно захохотал. - Ну, читайте, читайте! - Он сел и усадил Бруни рядом с собой.
Как это ни курьезно, первый мой приход к художнику, мастеру живописи, с целью учиться именно живописи, вылился в полуторачасовое чтение стихов, которых я в те годы знал наизусть великое множество. Наконец оба мои слушателя устали.
- Знаете, что, - сказал Осмеркин, - оставьте свои работы у меня и приходите завтра. Завтра поговорим о живописи.
Так началась моя учеба у Александра Александровича. Он поставил мне натюрморт и предложил работать у него в мастерской, чтобы иметь возможность чаще меня контролировать. Проводя в этой мастерской целые дни, а потом, когда организовалась группа рисунка, и вечера, я стал невольным свидетелем жизни Ал.Ал. В мастерскую приходило много самого разнообразного народа. Часто затевались споры об искусстве. Я по молодости лет не осмеливался принимать участия в этих спорах, но прислушивался к ним и многое запоминал. К сожалению, мне уже не удалось увидеть в этом доме Маяковского. Но имя Маяковского и споры о нем слышал я у Осмеркина не раз. Помню, как однажды пришел он домой вместе с каким-то человеком значительно старше его - думаю, что это был издатель Кожебаткин - и, продолжая начатый на улице разговор, сказал: "Ну, Маяк вообще отрицает станковую живопись. Он говорит, что ее время кончилось и надо всем переходить на плакат. Я ему говорю: “Ну, хорошо, натуралисты говно. Я, Лентулов, Машков и Кончаловский, по вашему эпигоны французов и тоже говно. Так кто же вам нравится?” А он мне отвечает: "Пикассо и Брак". -"Но мы же не можем, - кипятился Осмеркин, - возвращаться к кубизму! Нам надо создавать реалистическую живопись!"
Подкупающей чертой в характере Осмеркина был его демократизм, воспитанный, по-видимому, старыми демократическими традициями семьи, в которой он родился и вырос. Он не делал никакого различия в обращении с людьми, будь то знаменитость или простой, никому не известный человек. И какой-нибудь монтер или дворник мог так же стать его другом, как скажем, Маяковский или Яхонтов.
Особого упоминания заслуживают его отношения с учениками, которые привязывались к нему беспредельно. Я тогда уже неоднократно слышал от Осмеркина, что конечной целью всех усилий художника должно быть создание картины. И в моих глазах не было случайностью то, что он первый среди своих единомышленников в живописи с энтузиазмом взялся за картину, как только получил для этого материальную возможность, т. е. государственный заказ. Его картина "В Зимнем", написанная к десятилетию советской власти, удостоилась первой премии Совнаркома.
Я помню, как это произведение зарождалось. Говоря о великих картинах, Осмеркин чаще всего упоминал "Брак в Канне Галилейской" Веронезе и "Сдачу Бреды" Веласкеса. И безусловным откликом на увлечение декоративным гением Веронезе явилось то, что он выбрал фоном для своей картины лестницу Зимнего дворца. Ему хотелось захватить зрителя этим контрастом: показать на фоне барочной пышности дворца суровую простоту его новых хозяев.
Не только классиков возрождения - испанцев и венецианцев - причислял Осмеркин к вершинам живописи. Об Александре Иванове он говорил как о провидце, который в начале 19 века уже знал и понимал то, что открылось западным художникам только спустя тридцать или сорок лет. "Таланта было ему отпущено, - говаривал он, - не меньше, чем Рафаэлю и Тициану". И запомнилась мне еще одна его фраза. "Я не художник, - сказал он группе учеников, - художники это Иванов, Федотов, Суриков. А я только живописец". Любил он в своих разговорах с учениками ссылаться и на Врубеля, и на великих французов 19 века - на Делакруа, Коро, Курбэ, Домье, на импрессионистов и Сезанна.
Он никогда не держал ученика на почтительном расстоянии, говорил с нами искренне и просто, нисколько не боясь уронить свой авторитет. Если вы спросите любого из моих современников осмеркинцев, я уверен, каждый скажет, как мы любили его уроки, каким энтузиазмом к работе умел он нас зажигать, как умел вовремя пошутить и ободрить упавшего духом. Даже по отношению к ученикам, которых недолюбливал, он был необычайно тактичен и деликатен. Он требовал от всех нас бескорыстного, лишенного меркантилизма, служения искусству, воспитывал в своих учениках отношение к художественному творчеству как к общественному и национальному подвигу. И сам он в полной мере обладал той душевной щедростью, которая отличает настоящего педагога. В моей время обучение картине, композиции не входило в обязательную программу. Но мне рассказывали художники, учившиеся у него позже, что он, не задумываясь, отдавал студентам собственные темы и замыслы. И кто знает, может быть, многое из того, что отпустила ему природа, он не осуществил только потому, что растратил это на своих учеников.
Будучи в молодости учеником Машкова, он посоветовал и мне на последние курсы пойти к Машкову. Отличный живописец Илья Иванович Машков, как педагог был чрезвычайно своеобразен. Он сразу ошарашил нас целым градом афоризмов, которыми как-то трудно, даже невозможно было воспользоваться в работе. Я помню, как я пришел к Осмеркину и еще не смея в открытую критиковать метод преподавания Машкова, сказал с неопределенной интонацией: "Вы знаете, Илья Иванович говорит, что перед натурой надо ползать на пузе". "Ну что ж, попробуйте, - ответил Осмеркин, - только помните, что в этой позиции натуры не видно".
Вообще Александр Александрович бывал очень меток и остроумен. Однажды пришли к нему две молоденькие ученицы. Он стал им показывать альбомы репродукций, в том числе показал альбом Пикассо. Одна из девушек, перелистав этот альбом, спросила: "Александр Александрович, а можно любить одновременно Репина и Пикассо?" - "Валяйте, - ответил Осмеркин, и добавил, - если можете!"
Обстоятельства моей жизни сложились так, что с 1929 года мое профессиональное общение с Осмеркиным почти прекратилось. Я увлекся литературой и в качестве поэта-переводчика надолго, на добрых десять лет, оторвался от живописи. Осмеркина встречал с промежутками в три-четыре года, а то и реже. И, как и в первую встречу, наши разговоры вращались не столько вокруг живописи, сколько вокруг поэзии. Надо сказать, это далеко не случайно. Поэзия была (если говорить об искусстве) второй страстью Осмеркина, а Пушкин был его богом. Пушкина знал он не хуже, чем любой литературовед-пушкинист, а любил его может быть больше, чем всех художников пера и даже кисти. Он собрал огромную коллекцию материалов по Пушкину, наиболее интересную в своей иконографической части. В последние годы жизни больной, измученный, иногда лишая себя буквально куска хлеба, он все же покупал какую-нибудь интересную гравюру или редкое издание Пушкина. Доходило до того, что друзьям и жене он писал записки стихами Пушкина. При такой любви к поэзии не удивительно, что, встречая меня, он, не знавший иностранных языков и не могший читать в оригинале иностранных поэтов, всегда просил прочесть мои новые переводы.
Многие пейзажи Осмеркина навеяны стихами. Я не говорю уже о серии пейзажей Михайловского и Тригорского, которые сам бог велел писать на стихи Пушкина, но и многие пейзажи Ленинграда были откликом на ту или иную поэтическую строфу. Например, пейзаж Исаакиевского собора обязан своим возникновением строфе Тютчева:
Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.
Однажды я пришел к Осмеркину после недавно появившейся статьи, в которой этого большого художника, всегда стремившегося в своем творчестве к реализму и учившего реализму своих учеников, по какому-то трагическому недоразумению причислили к воинствующим формалистам. Осмеркин сидел за своим любимым делом: компоновал и клеил альбом с репродукциями. Таких альбомов составил он очень много и даже выдумал словечко "Осиздат" - издательство Осмеркина. Вопреки обыкновению Александр Александрович был грустен и неразговорчив. Он попросил меня почитать ему мои новые переводы. И добавил: "Прочтите что-нибудь из Гейне, только не надо сатиру. Что-нибудь погрустней". И я прочел ему;
Влачусь по свету желчно и уныло.
Тоска в душе, тоска и смерть вокруг.
Идет ноябрь, предвестник зимних вьюг,
Сырым туманом землю застелило.
Последний лист летит с березы хилой,
Холодный ветер гонит птиц на юг,
Вздыхает лес, дымится мертвый луг,
И - боже мой - опять заморосило.
- Подарите мне это стихотворение, - попросил Александр Александрович. - Я напишу на него пейзаж.
А много лет спустя, приблизительно году в 1952-м, я встретил его на Пушкинской улице. После двух-трех приветственных фраз он сказал: "Как у вас там сказано про художника? Напомните мне?" - "Где? - удивился я. - "В стихотворении Шиллера, я его читал".
И я, запинаясь, прочел ему на память свой перевод Шиллера. Приведу отрывок из него, чтобы стало ясно, что именно пленило Александра Александровича в шиллеровской философии искусства. Стихотворение называется "Идеал и жизнь":
Мертвый камень оживляя смело,
Создает богини тело
Вдохновенья пламенный порыв.
Но художник лишь в борьбе упорной
Побеждает мрамор непокорный,
Разуму стихию подчинив.
Только труд не знавший отступлений
Истину постигнет до конца
И над глыбой торжествует гений
Непреклонностью резца.
Над своим последним мощным взмахом
Он свершает чудо с прахом:
След усилий тщетно ищешь ты, -
Массы и материи не стало,
Стройный, легкий сходит с пьедестала
Образ воплощенной красоты.
Больше нет борьбы и колебаний,
3десь победы высшей торжество.
Смолк раздор бытийственных желаний
Пред гармонией его.
Осмеркин с глубоким восхищением слушал бессмертные строфы Шиллера. - "Спасибо, спасибо, мой дорогой!" - сказал он. Мы поцеловались.
И еще об одной встрече с Осмеркиным хочется мне рассказать. Это было уже незадолго до его смерти. С моим товарищем по Вхутемасу мы решили навестить нашего больного учителя и поехали к нему в Загорск. Когда мы выезжали из Москвы, была прекрасная погода, но постепенно небо заволоклось облаками и стало накрапывать. В Загорске мы нашли нужную улицу, но почему-то не могли разыскать дом и довольно долго блуждали по улице взад и вперед. Внезапно дверь одного домика раскрылась, и на пороге появился очень изможденный человек в длинной блузе неопределенного цвета. Мы не сразу узнали в этом человеке Осмеркина. Он пригласил нас войти. Разговор зашел о живописи, и Александр Александрович захотел погулять по городу и показать нам пейзажи Загорска. Он шел, тяжело опираясь на наши руки, но несмотря на слабость, каждый раз останавливался и с прежним темпераментом показывал нам какой-нибудь овраг с лепящимися по склонам домиками или старинный архитектурный мотив, или заводил нас в какой-нибудь полюбившийся ему дворик. Внезапно поднялся ветер. По небу шли тяжелые черные тучи и быстро темнело. Надвигалась гроза. Мы стояли возле дощатого забора, на краю оврага, заросшего высокими деревьями. И вдруг Осмеркин, держась одной рукой за забор, поднял лицо к небу и с какой-то дикой энергией, грозя кулаком навстречу приближавшейся туче, почти закричал: "Будь они прокляты, все, кто мешает искусству!" И он добавил крепкое словцо. Как будто в ответ ему, раскатился чудовищный удар грома, и с неба на землю обрушился буквально потоп.
Когда спустя часа три мы с приятелем сели в обратный поезд, посмотрели друг на друга, оба сказали "Король Лир!"
А.Д.Чегодаев
СВОЕ ВИДЕНИЕ
Левик - живописец-реалист в лучшем значении этого слова. Его живопись естественно и органически включается в большую реалистическую традицию русского искусства двадцатого века от Валентина Серова до Евсея Моисеенко и должна занять в истории свое достойное место.
Работал он как художник много, всегда вкладывая в свою живопись и большое душевное волнение, и настоящее высокопрофессиональное мастерство. Он окончил в свое время Вхутеин, был учеником А.А.Осмеркина и не напрасно пользовался советами такого замечательного учителя. Он остался близким и верным ему на всю свою жизнь. Школа Осмеркина угадывается сразу при встрече с живописью Левика - школа глубоко и самобытно претворенная, никак не в духе какого-либо почтительного подражания или робкой зависимости от учителя и наставника. Левик-живописец столь же индивидуален и неповторимо личен, как и Левик-поэт, Левик-переводчик.
Живопись была всецело выражением душевного мира Вильгельма Вениаминовича, его глубоко личных интересов, его вкуса, его поэтического взгляда на окружающую жизнь.
Для своих картин он выбирал самые простые мотивы, и в них особенно отчетливо выступает индивидуальность художника. Он постоянно, подобно Констеблю и импрессионистам, возвращался к одному и тому же месту, улавливая бесконечную изменчивость освещения и состояния разного времени дня и года. Я думаю, что тонкое и неизменно заинтересованно-любовное отношение к природе и понимание ее многообразной и многоликой жизни обусловило его удивительное мастерство в передаче зрительной, собственно "изобразительной" стихии и в поэзии, умение с необыкновенной точностью и верностью передать чисто зрительные ощущения, впечатления, переводя поэтов разных стран и времен. Достаточно вспомнить поразительную, чисто художническую "пластику" передачи тончайшего чувства реальной земли, реальной природы в переведенном им "Искусстве поэзии" Поля Верлена или пронзительно острое ощущение неповторимого облика Парижа в стихах того же Верлена или Шарля Бодлера.
Только художник, сам умеющий видеть все неисчерпаемое богатство окружающего реального мира, мог так легко и свободно перелить свое видение в словесные поэтические образы.
Написанные им портреты - это изображения близких и друзей, которых художник прекрасно знал, которые были ему дороги, портреты неизменно внимательные, серьезные и сердечные. Не уступает им причудливый, обостренно-странный, и в то же время удивительно похожий "Автопортрет", сознательно утрирующий необычные, резкие черты лица Вильгельма Вениаминовича, но необычайно верно передающий и его ум, и его доброту, и его действительную "необычность", редкостность его душевного, интеллектуального и поэтического человеческого облика.
То, что В.В.Левик был художником, позволило ему с особенно острым чувством и безукоризненной точностью переводить стихи поэтов, посвященные художникам. Так он перевел прекрасное стихотворение Бодлера "К портрету Оноре Домье". Так он перевел знаменитое четверостишие Бодлера, обращенное к картине Манэ "Лола из Валенсии"; только подлинный виртуоз стихосложения мог с такой непринужденной свободой и легкостью передать это по-ронсаровски чеканное и труднейшее для перевода стихотворение Бодлера.
Превосходно перевел Левик и посвященное великим художникам разных времен, подлинно трагическое стихотворение Бодлера "Маяки", и сонеты, написанные великим французским художником Эдгаром Дега. Но Вильгельм Левик чувствовал себя легко и свободно в любой стране, в любом времени, в любой другой человеческой душе, уме и сердце.
Шарль Бодлер (1821-1867)
К ПОРТРЕТУ ОНОРЕ ДОМЬЕ
Художник мудрый пред тобой,
Сатир пронзительных создатель.
Он учит каждого, читатель,
Смеяться над самим собой.
Его насмешка не проста.
Он с прозорливостью великой
Бичует зло со всею кликой,
И в этом - сердца красота.
Он без гримас, он не смеется,
Как Мефистофель и Мельмот.
Их желчь огнем Алекто жжет,
А в нас лишь холод остается.
Их смех - он никому не впрок,
Он пуст, верней, бесчеловечен.
Его же смех лучист, сердечен,
И добр, и весел, и широк.
МАЯКИ
Рубенс, море забвенья, бродилище плоти,
Лени сад, где в безлюбых сплетениях тел,
Как воде в половодье, как бурям в полете,
Буйству жизни никем не поставлен предел.
Леонардо да Винчи, в бескрайности зыбкой
Морок тусклых зеркал, где, сквозь дымку видны,
Серафимы загадочной манят улыбкой
В царство сосен, во льды небывалой страны.
Рембрандт, скорбная, полная стонов больница,
Черный крест, почернелые стены и свод,
И внезапным лучом освещенные лица
Тех, кто молится Небу среди нечистот.
Микельанджело, мир грандиозных видений,
Где с Гераклами в вихре смешались Христы,
Где, восстав из могил, исполинские тени
Простирают сведенные мукой персты.
Похоть фавна и ярость кулачного боя.
Ты, великое сердце на том рубеже,
Где и в грубом есть образ высокого строя, -
Царь галерников, грустный и желчный Пюже.
Невозвратный мираж пасторального рая,
Карнавал, где раздумий не знает никто,
Где сердца, словно бабочки, вьются, сгорая, -
В блеск безумного бала влюбленный Ватто.
Гойя - дьявольский шабаш, где мерзкие хари
Чей-то выкидыш варят, блудят старики,
Молодятся старухи, и в пьяном угаре
Голой девочке бес надевает чулки.
Крови озеро в сумраке чащи зеленой,
Милый ангелам падшим безрадостный дол, -
Странный мир, где Делакруа исступленный
Звуки Вебера в музыке красок нашел.
Эти вопли титанов, их боль, их усилья,
Богохульства, проклятья, восторги, мольбы -
Дивный опиум духа, дарящий нам крылья,
Перекличка сердец в лабиринтах судьбы.
То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
То сигнальные вспышки на крепостях горных,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.
И свидетельства, боже, нет высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим,
Чем прибой, что в веках нарастает все шире,
Разбиваясь об Вечность пред ликом твоим.
АЛЬБАТРОС
Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц Океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.
Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.
Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.
Так, поэт, ты паришь под грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.
СЛОВО О В.В.ЛЕВИКЕ
Удивительная открытость души, внутренняя чистота, детская непосредственность и доверчивость, детское простодушие, любопытство, умение радоваться и огорчаться - не скрывая ничего, не маскируясь...
Необыкновенная, неправдоподобная подвижность - тоже, как у ребенка, который за день может до 500 раз взбежать на горку...
Таким вижу я Вильгельма Вениаминовича Левика и сейчас... Душевно расположенный к собеседнику - он всегда был совершенно уверен во взаимности... Он всегда был готов придти на помощь, оказать услугу - а это ведь редкое качество, и слово "услуга" приобрело нынче неверный иронический оттенок... Он готов был помочь - с той легкостью, которая делала возможным принимать его помощь без колебаний.
Это великая щедрость души, щедрость истинного таланта, когда добро делается без оглядок, прикидок и взвешиваний.
Скольким молодым открыл он путь, добрый путь: напутствовал, благословлял, не боясь ошибиться, промахнуться...
Его дарение никогда не было жертвой... Поэтому-то оно не обременяло и совестливых людей, и они с легкостью пользовались его добротой, без зазрения этой самой совести.
Бытует легенда о том, как опаздывал Вильгельм Вениаминович на заседания и на поезд и на свои собственные вечера тоже... Опоздание - слово, связанное с рассеянностью, необязательностью. Да так ли?
Левик опаздывал... Да нет, он непременно приходил с третьим звонком, вбегал, влетал, потому что был очень обязательным, потому что не мог не придти, раз обещал, но просто до этого своего появления он выполнял еще сто обязательств, взятых на себя по доброй воле, охотно: надо было с кем-то встретиться, прочесть чью-то рукопись, поправить чужие стихи, посоветовать кому-то что-то, кого-то одобрить, кому-то написать предисловие, кому-то рекомендацию - на Совещание молодых, в Союз писателей, - написать не так, чтобы отвязаться, - а чтобы помочь, направить, наставить, поверив в возможности молодого (и не очень молодого) товарища, - он всегда спешил обрадовать, всегда соучаствовал в заботах и праздниках своих друзей...
Он всегда был готов выступить в честь кого-то, в защиту кого-то, причем эта готовность, эта доброта никогда не выглядела отягощающим благодеянием, ее всегда принимали легко, как должное...
Да, он входил в зал в последнюю минуту - на заседания, обсуждения, вечера, говорил добрые, прекрасные, веселые, изящные слова своим незабываемым, неповторимым голосом... а до того, оказывается, успевал посетить выставку молодого художника, не говоря о собственной мастерской, об издательствах, куда часто ходил по чужим делам, после вечера шел на симфонический концерт, клавирабенд, навещал больного, приносил лекарство, а, главное, знал волшебное слово, снимавшее боль, как прежде знахари, умел заговаривать недуги...
И когда он все успевал? И когда он работал над своими иными волшебными словами, сложившимися в замечательные книги его? Видимо, всегда, непрерывно...
И силы в нем, казалось, были неисчислимые, и охота - та самая, которая пуще неволи.
Да, случалось, видели мы его и усталым, и огорченным, но никогда раздраженным... Всегда - источающим доброту, порывистым, легким...
Отзывчивость душевная, мгновенная реакция, удивительная живость натуры всегда поражали...
Детская непосредственность сочеталась с врожденной деликатностью: как бы не обидеть, не задеть, не поранить!..
И во всем, во всех проявлениях - особый артистизм! Воистину - художник, артист в старом, широком обобщающем смысле, - человек Искусства, живущий жизнями великих поэтов разных времен и пространств, их судьбами, сплавленными с его собственной жизнью.
Воистину - Левик человек эпохи Возрождения, титан, "универсальный человек" - ему все интересно и все доступно, ему слышно и видно во все концы, мир воспринимается им живым, - цельно, вещно, звучно, красочно.
А забыть ли его праздники, его юбилеи?! Как мы готовились к ним - как дети ко дню рождения! ("Кого позовем?!"), как к елке, к игре, полной сюрпризов для всех участников... И все мы были не сторонними наблюдателями - а соучастниками всех этих игр и затей...
Для меня, помню, тогда открылся, вернулся изначальный смысл слова "юбилей", немецкое "Jubelfest ", обязательно по детским воспоминаниям связанный со словом "Jubeln": значит - дети ликуют, радуются... "Jubel" - ликование, веселье, восторг восторженный - все эти слова имеют прямое отношение к натуре Вильгельма Вениаминовича, - как далеки эти эмоциональные ощущения от сухого, официального слова "юбилей", высмеянного многими - от Чехова до Ильфа и Петрова.
Вильгельм Вениаминович постиг тайны красоты, тайны человеческого духа и души, слова, цвета и света.
Все открылось ему, все стало доступным.
Елена Николаевская
Рафаэль Альберти (1902 - )
КОРО
Ты - души эманация, свет
изнемогшего дня иль темнеющей рани,
стройный тополь, стройнее которого нет,
легкий, словно палитра, которой познал ты все грани.
Одевает листвой твои кисти рассвет,
в волосах многоцветно-зеленых
ветерок набежавший резвится.
Если ж вечер плывет, весь одевшийся в розовый цвет,
в сонной кисти твоей засыпает усталая птица.
Ты ли зеркало вод, что застыли в пути,
в бездыханных, недвижных, неслышных долинах.
Дай присниться себе, дай в себя мне уйти
среди влажных и трепетных рощ тополиных, -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты художник счастливых улыбок, ветров,
приносящих нам сильфов, ты свежесть лесная,
дымка, ткущая миру прозрачный покров,
иль озер еще девственных цепь голубая.
Дай мне жизни поток увидать наяву
там, где очи мостов твоих смотрят в спокойные дали.
Дай мою же увидеть листву -
ту, что ветры осенней поры разметали.
Дай мне детскую нежность души умиленной твоей,
дай любовь, что с Планеты уходит, слабея,
дай хоть ветку от всех сотворенных тобою ветвей,
но не дай мне грустить, что забыл о тебе я.
![]()
Дорогой друг!
Вы и представить себе не можете, сколько радости внесла в нашу больничную палату Ваша книжка. Десятки раз я перечитывал Вашего Гейне, и Ронсара, и Бодлера - и думаю, что все наши похвалы очень слабы и жалки - ибо не выражают и в сотой доле нашего восхищения. В Ваших "Стансах", в "Амуретте", в "Шалости", в "Чудесном вечере", в "Геро и Леандре" - пушкинская фактура стиха, - поразительная власть над материалом, читать эти стихи вслух - наслаждение.
Новинкой явилась мне "Сказание о Старом Мореходе" Кольриджа. Я считал это стихотворение непереводимым; ни Чюмина, ни Гумилев не справились с ним. И только у Вас ощущаешь все волшебство этих гипнотических звуков. А Гейне! Я знаю все переводы "Германии", начиная с Петра Вейнберга - вы и здесь непревзойденный триумфатор.
Просто не знаю, как провел бы я свои унылые больничные дни без этой божественной книги. Нужно ли говорить, что я заразил своим энтузиазмом всех врачей и сестер, и что многие брали у меня Вашу книгу, чтобы списать оттуда три-четыре стихотворения (и не только Ронсара).
Еще раз - спасибо!
Ваш
Корней Чуковский
Пьер Ронсар
1523-1585Из книги "Оды"
Мой боярышник лесной,
Ты весной
У реки расцвел студеной,
Будто сотней цепких рук
Весь вокруг
Виноградом оплетенный.
Корни полюбив твои,
Муравьи
3десь живут гнездом веселым,
Твой обглодан ствол, но все ж
Ты даешь
В нем приют шумливым пчелам.
И в тени твоих ветвей
Соловей,
Чуть пригреет солнце мая,
Вместе с милой каждый год
Домик вьет,
Громко песни распевая.
Устлан мягко шерстью, мхом
Теплый дом,
Свитый парою прилежной.
Новый в нем растет певец,
Их птенец,
Рук моих питомец нежный.
Так живи, не увядай,
Расцветай, -
Да вовек ни гром небесный,
Ни гроза, ни дождь, ни град
Не сразят
Мой боярышник прелестный.
Из книги "Любовь к Мари"
АМУРЕТТА
Вы слышите, все громче воет вьюга.
Прогоним холод, милая подруга:
Не стариковски, ежась над огнем,
С любовной битвы вечер свой начнем.
На этом ложе будет место бою!
Скорей обвейте шею мне рукою
И дайте в губы вас поцеловать.
Забудем все, что вам внушала мать.
Стыдливый стан я обниму сначала.
Зачем вы причесались, как для бала?
В часы любви причесок не терплю,
Я ваши косы мигом растреплю.
Но что же вы? Приблизьте щечку смело!
У вас ушко, я вижу, покраснело,
О, не стыдитесь и не прячьте глаз.
Иль нежным словом так смутил я вас?
Нет, вам смешно, не хмурьтесь так сурово!
Я лишь сказал - не вижу в том дурного! -
Что руку вам я положу на грудь.
Вы разрешите ей туда скользнуть?
О, вам играть угодно в добродетель!
Затейница! Амур мне в том свидетель:
Вам легче губы на замок замкнуть,
Чем о любви молить кого-нибудь.
Парис отлично разгадал Елену:
Из вас любая радуется плену.
Иная беззаветно влюблена,
Но похищеньем бредит и она.
Так испытаем силу - что вы, что вы!
Упали навзничь, умереть готовы!
О, как я рад - не поцелуй я вас,
Вы б надо мной смеялись в этот час,
Одна оставшись у себя в постели.
Свершилось то, чего вы так хотели!
Мы повторим, и дай нам бог всегда
Так согреваться в лучшие года.
Из "Посланий"
ШАЛОСТЬ
В дни, пока златой наш век
Царь бессмертных не пресек,
Под надежным Зодиаком
Люди верили собакам.
Псу достойному герой
Жизнь и ту вверял порой.
Ну, а ты, дворняга злая,
Ты, скребясь о дверь и лая.
Что наделал мне и ей,
Нежной пленнице моей,
В час, когда мы, бедра в бедра,
Грудь на грудь, возились бодро,
Меж простынь устроив рай, -
Ну зачем ты поднял лай?
Отвечай, по крайней мере,
Что ты делал возле двери,
Что за черт тебя принес,
Распроклятый, подлый пес?
Прибежали все на свете:
Братья, сестры, тети, дети, -
Кто сказал им, как не ты,
Чем мы были заняты,
Что творили на кушетке!
Раскудахтались соседки.
А ведь есть у милой мать,
Стала милую хлестать -
Мол, таких вещей не делай!
Я видал бедняжку белой,
Но от розги вся красна
Стала белая спина.
Кто, скажи, наделал это?
Недостоин ты сонета!
Я уж думал: воспою
Шерстку пышную твою.
Я хвалился: что за песик!
Эти ушки, этот носик,
Эти лапки, этот хвост!
Я б вознес тебя до звезд,
Чтоб сиял ты с небосклона
Псом, достойным Ориона.
Но теперь скажу я так:
Ты не друг, ты просто враг.
Ты паршивый, пес фальшивый,
Гадкий, грязный и плешивый.
Учинить такой подвох!
Ты - плодильня вшей и блох,
От тебя одна морока,
Ты - блудилище порока,
Заскорузлой шерсти клок.
Пусть тебя свирепый дог
Съест на той навозной куче.
Ты не стоишь места лучше,
Если ты, презренный пес,
На хозяина донес.
Из книги "Сонеты к Елене"
Когда хочу хоть раз любовь изведать снова,
Красотка мне кричит: "Да ведь тебе сто лет!
Опомнись, друг, ты стал уродлив, слаб и сед,
А корчишь из себя красавца молодого.
Ты можешь только ржать, на что тебе любовь?
Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен,
Хоть прелести мои тебе волнуют кровь,
Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин.
Взглянул бы в зеркало: ну право, что за вид!
К чему скрывать года, тебя твой возраст выдал:
Зубов и следу нет, а глаз полузакрыт,
И черен ты лицом, как закопченный идол".
Я отвечаю так: не все ли мне равно,
Слезится ли мой глаз, гожусь ли я на племя,
И черен волос мой иль поседел давно, -
А в зеркало глядеть мне вовсе уж не время.
Но так как скоро мне в земле придется гнить
И в Тартар горестный отправиться, пожалуй,
Пока я жить хочу, а значит, и любить,
Тем более что срок остался очень малый.
АМАДИСУ ЖАМЕНУ
Три времени, Жамен, даны нам от рожденья:
Мы в прошлом, нынешнем и в будущем живем.
День будущий, - увы! - что знаешь ты о нем?
В догадках не блуждай, оставь предрассужденья.
Дней прошлых не зови - ушли, как сновиденья,
И мы умчавшихся вовеки не вернем.
Ты можешь обладать лишь настоящим днем.
Ты слабый властелин лишь одного мгновенья.
Итак, Жамен, лови, лови наставший день!
Он быстро промелькнет, неуловим как тень,
Зови друзей на пир, чтоб кубки зазвучали!
Один лишь раз, мой друг, сегодня нам дано,
Так будем петь любовь, веселье и вино,
Чтоб отогнать войну, и время, и печали
.![]()
Корней Иванович Чуковский вспоминает.
/Ташкент/ Случилось так, что в феврале 1942 года группа московских писателей по инициативе Иосифа Уткина решила собираться по воскресеньям в том доме, где он проживал вместе со своим другом Погодиным. В первое воскресенье Погодин должен был читать свою новую драму, но заболел - и нужно было спешно его заменить. Тут я вспомнил о своей Чукоккале, и продемонстрировал ее перед собравшимися. Один из них, поэт Вильгельм Левик, обладавший удивительной способностью к импровизации, мгновенно набросал следующие стихи;
СОЗДАТЕЛЮ ЧУКОККАЛЫ
Как часто думал я с тоской,
Что вы живете на Тверской,
А я в Крапивинском, так близко, -
Но мы друг другу далеки,
Как будто я жилец Оки,
А вы туземец - Сан-Франциско.
И вот настал такой момент,
Когда загнали нас в Ташкент,
И, право, сей Ташкент кудесник:
Едва в одну попали грязь,
Тотчас же обрели мы связь,
То было в первый же воскресник.
И Репин, Горький, Брюсов, Блок, -
О, всех желаний потолок! -
Те, кто бессмертны и велики,
Те, гении недавних лет,
Чей не сотрется гордый след,
Они пред нами - в вашем лике.
Вы снова дар явили свой.
Рассказ то грустный, то живой,
То саркастичный, то фривольный,
Ваш острый ум, лукавый взгляд,
Слегка опасный речи яд -
Все будит в нас восторг невольный.
Есть место в уткинском дому
Таланту, сердцу и уму!
Здесь дышишь славной стариною!
И я, в преддверии Москвы
Уже готов грустить, что вы
Не отплываете со мною.
Но я надеюсь много раз
И видеть вас, и слышать вас,
Вернувшись в наш уют московский
Пока же, в нудной сей глуши,
Благодарю вас от души,
Корней Иванович Чуковский!
В.Левик
![]()
Дорогой Вильгельм Вениаминович!
Я хочу, чтобы в этих моих искренних словах звучало не только восхищение Вашим многосторонним талантам, великолепным мастерством, безошибочным вкусом, глубокой эрудицией, но и теплая нежная симпатия и любовь к Вам, прелестному человеку, мудрому, скромному, великодушному. Спасибо Вам за то, что Вы есть и долго-долго еще будете. Спасибо Вам за дружбу, которой Вы меня удостоили и которая меня так радует.
Ваш Никола Бажан
![]()
М.Рыльский. Из письма А.Дейчу. 5/У1.48.
Я сейчас весь в работе над русским Мицкевичем. Переводы, особенно лирики, оставляют желать лучшего. Требуют большой редакторской работы "Крымские сонеты" и многое другое. Выделяются переводы В.Левика (передайте ему сердечный привет). Ему удалось передать запах образов, метафор, сравнений, эпитетов Мицкевича. Любовные сонеты, в которых чувствуется веянье Петрарки, получили достойное воплощение. Как же Мицкевич умеет сочетать разные тона, не боясь впасть в дисгармонию! И с какой яркостью он видит все богатство красок мира! Великолепный поэт! И как я понимаю переводчиков: какой это каторжный труд - переводить Мицкевича.
Из наследия Максима Рыльского.
Вопросы литературы. 1982. Ж 12. Стр. 296.
Адам Мицкевич (1798-1855)
БАЙДАРЫ
Нещадно бью коня - летим во весь опор.
Земля плывет у ног и льнет к его копытам
То весом, то тропой, то вздыбленным
гранитом,
Движеньем образов пьяня мой дух и взор.
Конь в мыле, он храпит, не слушается шпор.
Мне ветер жжет лицо. Как в зеркале разбитом,
Уже бесцветные во тьме, пятном размытым,
Мелькают призраки лесов, долин и гор.
Мир спит, но я не сплю. Вот море предо мною.
На берег вал идет, как черная стена.
Я, руки вытянув, склонясь, иду к прибою.
Гремит, накрыв меня, и рушится волна.
О, если бы, как челн, закруженный стремниной,
Могла исчезнуть мысль хотя б на миг единый!
ПЛАВАНИЕ
Гремит! Как чудища, снуют валы кругом.
Команда, по местам! Вот вахтенный промчался,
По лесенке взлетел, на реях закачался
И как в сетях, повис гигантским пауком.
Шторм! Шторм! Корабль трещит.
Он бешеным рывком
Метнулся, прянул вверх,
сквозь пенный шквал прорвался,
Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался.
За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом.
Я криком радостным приветствую движенье,
Косматым парусом взвилось воображенье,
О счастье! Дух летит вослед мечте моей!
И кораблю на грудь я падаю, и, мнится,
Мою почуяв грудь он полетел быстрей
.Я весел! Я могуч! Я волен! Я - как птица!
БУРЯ
В лохмотьях паруса, рев бури, свист и мгла.
Руль сломан, мачты треск, зловещий хрип
насосов.
Вот вырвало канат последний у матросов.
Закат в крови померк, надежда умерла.
Трубит победу шторм! По водяным горам,
В кипящем хаосе, в дожде и вихре пены,
Как воин, рвущийся на вражеские стены,
Идет на судно смерть, и нет в защиты нам.
Те падают без чувств, а те ломают руки,
Друзья прощаются в предчувствии разлуки.
Обняв свое дитя, молитвы шепчет мать.
Один на корабле к спасенью не стремится,
Он мыслит: счастлив тот, кому дано молиться,
Иль быть бесчувственным, иль друга обнимать.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА
Да, он пришел к нам вновь, пилигрим, чей романтический образ так восхитил всех полтораста лет назад. Он вернулся со своим творцом, в новом поэтическом облачении, столь прекрасном, что невольно настраиваешься на возвышенный лад.
Однако читатель вправе узнать, чем вызван столь редкостный феномен - восторг критика. Спешу объяснить. Речь идет о томе Байрона в “Библиотеке всемирной литературы”. Готовя книгу, редакция не могла не испытывать затруднений. обычных для этого издания, ибо каждому автору, как правило, отводится лишь один том. Выход был найден; ограничились тем, что напечатали только два произведения - "Паломничество Чайльд-Гарольда" и "Дон-Жуан". И верно! В поэмах - весь Байрон, вся суть его могучего поэтического дара, великолепно сочетавшего лирическое начало с эпическим, яркий и глубоко личный взгляд на мир с поразительным умением создавать запоминающиеся картины действительности. Байрон в них весь еще и потому, что над двумя великими творениями он работал почти всю свою творческую жизнь - без малого четверть века. От песни к песне он рос и менялся; и личность поэта, и его мировоззрение, и мастерство раскрываются перед нами в их развитии.
Обе поэмы представлены в современных переводах. О "Дон Жуане" в переводе Татьяны Гнедич нет нужды говорить. Работа Гнедич публикуется уже третий раз и вошла в нашу переводческую классику. Новинкой не только тома, но и всей нашей переводной поэзии является "Паломничество Чайльд-Гарольда", воссозданное Вильгельмом Левиком.
Я не стану возносить новую работу, хуля старые переводы. Они выполнили свою благородную роль и позволили завязать знакомство с замечательной поэмой тем, кто не знал языка подлинника. Опыт работы предшественников не прошел даром и для нашего поэта. Но он опирался и на собственный долгий опыт. Вспомним его многочисленные переводы других европейских поэтов-романтиков, его блистательного байроновского "Беппо", наконец фрагменты из "Чайльд-Гарольда", увидевшие свет много лет назад. И вот - завершенный "Чайльд-Гарольд"!
В новом переводе Байрон зазвучал свежо и сильно. Поэтическая лексика В.Левика, ритм и интонация его стиха возвращают нас к подлинному Байрону, насколько это возможно в переводе. Воссоздано благозвучие байроновского стиха, его необыкновенно разнообразная мелодика. Элегия и инвектива, исторические реминисценции и выходы в тогдашнюю современность, красочная словесная живопись и философские размышления, ирония и страсть, скорбь и могучее жизнелюбие - все это, звучащее у Байрона, требует от переводчика очень богатой палитры.
Но, может быть, лучшая похвала переводчику то, что, говоря о его работе, невольно думаешь уже не о нем, а о поэте, в которого он перевоплотился. Нет, он не "соперник", а влюбленный в Байрона поэт, удивительно настроившийся на его лад, чутко улавливающий все изгибы подлинника, его поэтизмы и обыденные интонации, героическую настроенность и необыкновенную остроту мысли великого революционного романтика.
Вильгельм Левик переводит много и всегда мастерски. Но есть в его творчестве работы, где ощущаешь полное растворение поэта в стихии подлинника. Перевод "Чайльд-Гарольда" - создание именно такого рода.*
Из заключительных строф "Чайльд-Гарольда"
Есть наслажденье в бездорожных чащах,
Отрада есть на горной крутизне,
Мелодия в прибое волн кипящих
И голоса в пустынной тишине.
Людей люблю, природа ближе мне.
И то, чем был, и то, к чему иду я,
Я забываю с ней наедине.
В себе одном весь мир огромный чуя.
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
Стремите, волны, свой могучий бег!
В простор лазурный тщетно шлет армады
Земли опустошитель, человек.
На суше он не ведает преграды,
Но встанут ваши темные громады,
И там, в пустыне, след его живой
Исчезнет с ним, когда, моля пощады,
Ко дну пойдет он каплей дождевой
Без слез напутственных, без урны гробовой.
Нет, не ему поработить, о море,
Простор твоих бушующих валов!
Твое презренье тот узнает вскоре.
Кто землю в цепи заковать готов.
Сорвав с груди, ты выше облаков
Швырнешь его, дрожащего от страха,
Молящего о пристани богов,
И точно камень, пущенный с размаха,
О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.
Чудовища, что крепости громят,
Ниспровергают стены вековые -
Левиафаны боевых армад,
Которыми хотят цари земные
Свой навязать закон твоей стихии, -
Что все они! Лишь буря заревет,
Растаяв, точно хлопья снеговые,
Они бесследно гибнут в бездне вод,
Как мощь Испании, как трафальгарский флот.
Ты Карфаген, Афины, Рим видало,
Цветущие свободой города.
Мир изменился - ты другим не стало.
Тиран поработил их, шли года,
Грозой промчалась варваров орда,
И сделались пустынями державы.
Твоя ж лазурь прозрачна, как всегда,
Лишь диких волн меняются забавы,
Но, точно в первый день, царишь ты в блеске славы.
Без меры, без начала, без конца,
Великолепно в гневе и в покое,
Ты в урагане - зеркало Творца,
В Полярных льдах и в синем южном зное
Всегда неповторимое, живое,
Твоим созданьям имя - легион,
С тобой возникло бытие земное.
Лик Вечности, Невидимого трон,
Над всем ты царствуешь, само себе закон.
Здесь Левик предстает поэтом огромной мощи. Вы чувствуете всю эту Байроновскую силу, охватывающего поэтическим взором все мироздание, ведь это поэзия космическая, поэзия мировой истории, поэзия природы. И все это через восприятие одной могучей, грандиозной личности. И так это все и звучит в стихе Левика.
Среди перлов поэтического творчества Левика, конечно же, нужно назвать и Гете. Он создал ряд замечательных переводов лирики Гете. Очень сильна у Левика медитативная поэзия Гете, поэзия мысли, чувства, идей. Все то, что сделало Гете поэтом-мыслителем.
Мудрость зрелого Гете, воплощенная в "Западно-восточном диване", удивительная простота проникновения в самые глубины жизни, которая раскрылась перед этим, уже вступившим под. уклон, под жизненный уклон поэтом, все это Левик с удивительной силой передал. Сочетание первозданной наивности, многовековой мудрости, веселого жизнерадостного духа, все что есть в "Западно-восточном диване" с удивительной силой воплотилось у Левика.
Александр Аникст
Иоганн Вольфганг Гете (1749 - 1832)
Из "3ападно-восточного дивана"
Из "Книги певца. Моганни-наме"
СТИХИИ
Чем должна питаться песня,
В чем стихов должна быть сила,
Чтоб внимали им поэты
И толпа их затвердила?
Призовем любовь сначала,
Чтоб любовью песнь дышала,
Чтобы сладостно звучала,
Слух и сердце восхищала.
Дальше вспомним звон стаканов
И рубин вина багряный, -
Кто счастливей в целом мире,
Чем влюбленный или пьяный?
Дальше - так учили деды -
Вспомним трубный голос боя,
Ибо в зареве победы,
Словно бога, чтут героя.
Наконец, мы сердцем страстным,
Видя зло, вознегодуем,
Ибо дружим мы с прекрасным,
А с уродливым враждуем.
- Слей четыре эти силы
В первобытной их природе -
И Гафизу ты подобен,
И бессмертен ты в народе.
СОТВОРЕНИЕ И ОДУХОТВОРЕНИЕ
Адама вылепил господь
Из глины, сделал чудо!
Была земля, а стала плоть -
Бездушная покуда.
Но вдунул в ноздри Элохим
Ей дух - всему начало,
И чем-то стал чурбан живым:
Оно уже чихало.
Но и чурбан с душой пока
Он был получурбаном.
Тут Ной наставил простака:
Снабдил его стаканом.
Хлебнул облом - и хоть летай!
Пошло тепло по коже.
Вот так же всходит каравай,
Едва взыграли дрожжи.
И так же твой, Гафиз, полет,
Пример твой дерзновенный,
Под звон стаканов нас ведет
Во храм творца Вселенной.
ЗУЛЕЙКЕ
Чтоб игрою благовоний
Твой порадовать досуг,
Гибнут сотни роз в бутоне,
Проходя горнило мук.
За флакон благоуханий,
Что, как твой мизинец, мал,
Целый мир существований
Безымянной жертвой пал, -
Сотни жизней, что дышали
Полнотою бытия
И, волнуясь, предвкушали
Сладость песен соловья.
Но не плачь, из их печали
Мы веселье извлечем.
Разве тысячи не пали
Под Тимуровым мечом!
Трилогия страсти
УМИРОТВОРЕНИЕ
Ведет к страданью страсть. Любви утрата
Тоскующей душе невозместима.
Где все, чем жил ты, чем дышал когда-то,
Что было так прекрасно, так любимо?
Подавлен дух, бесплодны начинанья,
Для чувств померкла прелесть мирозданья.
Но музыка внезапно над тобою
На крыльях серафимов воспарила,
Тебя непобедимой красотою
Стихия звуков мощных покорила.
Ты слезы льешь? Плачь, плачь в блаженной муке,
Ведь слезы те божественны, как звуки!
И чует сердце, вновь исполнясь жаром,
Что может петь и новой жизнью биться,
Чтобы, на дар ответив щедрым даром,
Чистейшей благодарностью излиться.
И ты воскрес - о, вечно будь во власти
Двойного счастья - музыки и страсти.
А.Каменский
СКРИПКА ЛЕВИКА
Если верить легенде, знаменитый французский художник Энгр настолько хорошо играл на скрипке, что свободно мог соревноваться с виртуозами-концертантами. Отсюда пошло французское выражение "виолон д'Энгр", "скрипка Энгра", что в переводе на современный язык значит нечто вроде "вторая профессия".
Предания обычно преувеличивают или вовсе врут. И россказням про Энгра я не слишком верю: будь он таким хорошим музыкантом, не стал бы в живописи столь сухим, немелодичным академистом.
Но во всяком случае термин родился и живет поныне. Естественно, что я вспомнил о нем на выставке работ писателей-художников. Их, оказывается, немало: можно было бы открыть в СП подсекцию Энгров.
В.Левик по заслугам занял бы в ней положение мэтра. Он - настоящий профессионал в живописи и занимается ею столь увлеченно, настойчиво, усердно, что я просто ума не приложу, когда же Левик выбирает время для работы над переводами.
Возможно, такая увлеченность тем и объясняется, что здесь-то, в живописи, Левик не должен подчинять свое поэтическое вдохновение чужим, иноязычным образам. Здесь он - сам оригинал, сам полновластный хозяин своей фантазии, своих представлений о красоте.
Ближе всего Левику пейзажный жанр. Он создал свои "Тарусские страницы" - большой цикл работ, изображающих различные уголки Тарусы. В добрых традициях живописи Крымова он пишет плотно, материально, добиваясь ясной и целостной в своей многогранной сложности колористической гармонии. И чувство природы у него очень цельное, чистое, сердечное. За этими спокойными закатами, отсветами солнечных лучей на строениях, вольным бегом лесной тропинки я вижу светлый мир человека, чья душа настежь открыта простым, небурным радостям бытия.
Иной модник скажет, что такие пейзажи "уже не носят", они-де архаичны. Действительно, Левик не пытается запечатлеть вихревые ритмы некоторых сторон современной жизни. Но ведь у нее много граней, и ничто не должно пройти мимо искусства. Я сам высоко ценю экспрессию, гиперболы больших обобщений, динамическое напряжение живописных образов, сражаюсь за то, чтобы они завоевали себе место под солнцем, разгоняя серые сумерки унылых "манежных" поделок. Но рядом с космическими масштабами событий нашей жизни, рядом с чрезвычайной сгущенностью, эмоциональной и идейной концентрацией многих подлинно современных образов искусства испытываешь особенно острую необходимость в спокойной, просветленной, "тихой" лирике.
Пейзажи Левика выдержаны именно в таком лирическом ключе. И не только тарусские, но и московские, "урбанистические". Своеобразный триптих - "После дождя", "Город на закате", "Осень", изображающий один и тот же городской вид в разных состояниях, принес мне большую радость, показал родной мой город с такой ясной, доброй, спокойно-созерцательной интонацией, которую я давно уж не встречаю в московских пейзажах и которой как-то очень недоставало.
... Энгр! Не говорите мне про Энгра! Левик играет на своей скрипке куда лучше!
А.Каменский
![]()
Эдгар Дега
*Природа, знавшая, что ей к лицу покой,
Спала, подобная красавице из сказки.
Но запыхавшийся счастливый голос пляски
Ей звонко возвестил, что час пришел другой.
Пересеченье рук или ноги с ногой,
Движенье, полное желанья, гнева, ласки,
Ритм, уводящий в плен, дающий танцу краски, -
Все будоражило, во всем был новый строй.
Пляшите, красотой не обольщая модной,
Пленяйте мордочкой своей простонародной,
Чаруйте грацией с бесстыдством пополам.
Вы принесли в балет бульваров обаянье -
Отвагу, новизну, вы показали нам,
Что создают цариц лишь грим да расстоянье.
Шандор Петефи (1823-1849)
БРОДЯГА
Если денег нет в кармане,
Нет и в брюхе ни черта!
У меня в кармане пусто -
Вот и в брюхе пустота.
. . . . . . . . . . . . . . .
Завтра, завтра есть я буду
(Коль достану что-нибудь),
Сладкой матери-надежды
Пососу покуда грудь.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Ну-тка, серая, гнедая,
Ну-тка, ноги, побыстрей!
Что за кони, просто прелесть:
Не корми да не жалей!
Левый оттого и серый,
Правый оттого гнедой,
Что вчера, пробрав штанину,
Я кусок пришил другой.
У меня костюм был новый,
Был он крепок да хорошо,
Так, чтоб он не истрепался,
Я спустил его за грош.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Шутка шуткой, а погоду
За разбой бы да под суд!
Ливень, холод, снег да ветер -
Одного четыре бьют!
И босой по лужам еду, -
Впрочем, этак лучше мне:
В сапогах сегодня плавать
Мокро было бы вдвойне.
Так пускай хохочет ветер
Оттого, что я промок.
Он когда-нибудь мне тоже
Попадется на зубок.
Бог пошлет мне мастерскую
С теплой печью, в два окна,
Будет в ней светло и чисто,
Будут дети и жена.
А тогда уж, если ветер
Взвоет у моих окон,
Засвищу ему я в рожу,
Чтоб со злости лопнул он.
![]()
Вильгельм Вениаминович, дорогой!
Передать словами то наслаждение, которое доставляет Ронсар, так же невозможно, как и наслаждаться любовью по нотариальной доверенности. Читаю про себя. И вслух. И себе. И другим. И восхищаюсь. Ронсаром. И Левиком. Я не знаю, кто лучше. Думаю, что в других руках Ронсар оказался бы плохо выкрашенным покойником. Еще думаю, что его стихи лучше, нежели сонеты Шекспира. Но еще яснее, что Левик тончайший музыкант, а известные нам переводы Шекспира по сравнению со звучанием левикова оркестра не более, чем великолепные литавры и там-тамы, которые не производят музыки, но сами по себе стоят дорого и в общем оркестре очень нужны. Но не хватает им именно той самой музыки, достоинства которой они призваны подчеркивать, когда звучат гобои и скрипки, трубы, наготы, виолончели, валторны и арфы, которые у Вильгельма Левика сверкают, как золото в сундуках Скупого рыцаря. Это ошеломляет, дорогой Вильгельм Вениаминович! И, кроме того, все стихи переведены тенором и в расчете на отчетливое скандирование. Что за язык! Какие бездны русской речи вызывает к свету этот француз, как только Вы умакнете перо или насосете чернил в Вашу автоматическую ручку! Безумство таланта! Пир духа! Тонкость мелодизации! Тысячи вариантов интонационных, ритмических, моцартовские созвучия, прозрачность мелодических линий, запятые поют, воздуха много!.. И ни капли воды! Никаких служебных слов, рифменных амнистий, паразитарных оборотов! Ах, как хороши Левик и его друг Ронсар! Это знает только тот, кто владеет этой дивной книжкой, кто имеет уши и не оглох для прекрасного!
Спасибо Вам, добрый и благородный В.В.Левик! Талант щедрый и снисходительный к недостаткам замордованных работой почитателей настоящей поэзии !
Ваш Ираклий Андронников
![]()
С.В.Шервинский
Мы хоронили Вильгельма ярким солнечным днем сентября.
Я называю покойного просто Вильгельмом, хотя мы всегда звали друг друга полным именем-отчеством, что до известной степени скрадывало разницу в возрасте - он был моложе меня на 15 лет.
Я приехал на гражданскую панихиду еще больной, и мне поставили стул, чтобы я мог на ней присутствовать. Я не могу найти точного снова для обозначения того, что во мне происходило, пожалуй, вернее всего было бы сказать, что я испытывал некое смятение. Оно овладело мной с той минуты, когда кто-то из близких, стараясь скрыть волнение, внятно, но очень тихо, опасливо сказал мне - Левик умер...
Может быть, то было отражением моего собственного состояния, но мне виделся весь переполненный вестибюль тоже во власти сдержанного, но затаенного смятения. Казалось, никто еще не мог осознать неожиданно постигшего удара. Зал сверху донизу был задрапирован красными траурными полотнищами, люстры были завешены прозрачно-черными чехлами. Солнце широко врывалось в открытые окна и ложилось на голом полу прямоугольниками ослепительного света. Они перемежались с красным и черным и мешали воспринимать окружающее.
Постамент с гробом был довольно высок и лишь немногим удавалось видеть лицо покойного. Я слушал поверх голов стоявших впереди голоса ораторов, не различая слов, но ухо угадывало простоту и искренность каждой речи. Никакой официальности не было.
Наиболее волнующими были минуты, когда гроб с телом Вильгельма несли мимо нас к выходу. Я стоял неподалеку, когда его вынесли из тяжелых дверей нашего писательского дома на воздух и свет, чтобы предать, уже за пределами родной Москвы, пламени крематория. Лица Вильгельма мне так и не удалось видеть за теснившимися людьми и ворохами цветов. Эту утрату я переживал тяжело.
Когда мы ближе познакомились с Левиком, он был на подъеме. Всем стало очевидно, что среди нас возникло многообещающее явление, новая восходящая звезда. Прошел ряд лет, насыщенных трудом и вдохновением. Левик, не оставляя живописи, в которой достиг профессиональной зрелости, уверенно пошел по второму пути того сложного требовательного искусства, которое именуется "стихотворным переводом". Вскоре поэт обогнал живописца. В этот период, когда Левик созрел как поэт, мне посчастливилось вступить с ним в отношения более глубокие, чем взаимное уважение и товарищеская близость.
В незабываемый, погруженный в печаль сентябрьский день, за гробом Левика рядом с живыми шли величественные тени Гете и Гейне, Ронсара и Дю Белле, Байрона и Бодлера и еще целый сонм других, кого он породнил с нашей культурой, тех, кому он дал новую жизнь. Об охвате творческого наследия Левика будут помнить многие поколения. О нем будут писать книги.
Наша дружба с Вильгельмом, крепкая и бескорыстная, была особого порядка. Мы не хаживали друг к другу в гости, но где бы мы ни встречались, мы сразу испытывали настоящую близость, главная сфера которой - наше общее творчество. Мы даже мало теоретизировали в области поэзии, мы предпочитали делать у всех на глазах всем очевидное дело, нежели говорить о нем. Тут вступало в свои права то, что мы называем "понимать с пол-слова". Мы сблизились с Вильгельмом, когда оба уже перешли порог зрелости. Можно было не видеться чуть ли не годами, а встретившись, чувствовать живо братскую руку. Я считаю, что нашу дружбу с ним можно принимать как образец дружбы литературной, поэтической. Именно поэтому его кончина для меня как обрыв в ровной местности.
Однако я не хочу, чтобы подумали, что наши отношения с Вильгельмом были обделены житейским теплом.
Одним из наиболее ярких моментов наших взаимоотношений была весна 1969 года, когда Левик попросил меня прослушать подготавливавшуюся им к печати книгу его переводов "Цветов зла" и сделать критические замечания. Я пошел навстречу оказанной мне чести с особой охотой, поскольку Бодлер был и его и моим любимейшим поэтом. Замечаний к прекрасным переводам Левика у меня было немного, но самая наша работа оставила у меня, а кажется, и у него, неизгладимое впечатление.
Случалось нам с ним и выступать иногда под одной обложкой в качестве редакторов.
Ни в одной из областей нашей деятельности никогда не возникало у нас никакого оттенка соперничества. Наоборот, каждый из нас умел радоваться успеху другого.
Еще одна область сближала нас - это было искусство. Левик успешно служил ему практически, я - как теоретик и историк, поскольку значительную долю моей жизни посвятил живописи и, особенно, архитектуре, - как исследователь и педагог. На эти темы мы с Вильгельмом отзывались неизменно с одинаковой увлеченностью, много вспоминали из виденного в разных музеях и странах. Замечательно, что Левик, будучи живописцем, легко поддавался величественному обаянию архитектуры. Я живо помню, как он рассказывал мне про посещение в Париже музея Гиме, где собраны в натуральную величину образцы мировых шедевров зодчества. То, что этот музей состоит из слепков, не отпугивало широкомыслящего художника и, по собственному его признанию, необычайно расширило охват его знаний и впечатлений.
Однажды Вильгельм, встретив меня, радостно сообщил, что он спешно едет в Ленинград бросить взгляд на вывезенный из Берлина после войны знаменитый Пергамский алтарь.
Из моей личной беседы с Вильгельмом я знаю, что он мечтал написать монографию о Сандро Боттичелли, но, к сожалению, огромная загруженность другой творческой работой помешала выполнению этого замысла.
Действительно, можно только удивляться громадности того, что сделал Левик в области освоения многоязычных творений поэзии, щедро обогатив ими сокровищницу родной культуры. Для осуществления этой задачи он обладал исключительной творческой зеркальностью, вспоминается выражение Пушкина о Жуковском - "гений перевода".
Нас с Вильгельмом сближала еще одна черта, о которой хочется упомянуть именно в плане воспоминаний: мы с ним оба любили зверей, Вильгельм с особенной нежностью относился к кошкам. Я помню, как мы бродили по Тарусе, выглядывая полюбившуюся нам кошку редкой расцветки. Потом уговаривали хозяев эту кошку нам продать, но безуспешно. В другой раз мы увидели другую прелестную четвероногую красавицу без хозяев. У нас уже не было возможности поселить ее у себя, и мы стали думать, куда бы ее пристроить. Кончилось тем, что с благословения Вильгельма я посадил кошку в корзинку и отвез непосредственно на Басманную в Гослитиздат, где, конечно, тут же нашлись кошколюбивые души, и наша кошечка обрела достойный приют.
Многие знают и помнят, что всегда приветливый, простой, удивительно доброжелательный и воспитанный Левик бывал иногда детски рассеян; рассказывают, что он однажды долго сидел в отдельной комнате в Союзе писателей, пока кто-то, наконец, не обнаружил его, сидящим в одиночестве, и не напомнил ему, что в переполненном зале уже началось собрание и что этот вечер его, Левика, юбилейный.
На домашнее, но многолюдное празднование моего 75-летия Левик пришел с шампанским и с цветами, но вечером накануне, что, разумеется, не помешало ему на следующий день прийти еще раз и дружески меня поздравить.
Много можно было бы рассказать уютного и веселого, связанного с ним, если бы теперь не было так бесконечно грустно об этом вспоминать.
Кончина Вильгельма Вениаминовича Левика - это утрата не только в дружеском или даже литературном плане, его отсутствие - непоправимый пробел во всей нашей общественной жизни. Для всех нас он был неизменным авторитетом; драгоценным было одно его присутствие среди нас; никому не отказывал он в совете и творческой помощи. Не всем было видно, как Вильгельм Вениаминович мог забыть себя, когда нужно было помочь близкому.
Его знали и ценили далеко за пределами Советского Союза. Он был и останется живой связью разноязычных культур и тем самым - учителем поколений.
Николаус Ленау (1802-1850)
ПЕЧАЛЬ НЕБЕС
На лике неба хмурой темной тучей
Блуждает мысль, минувшей бури след.
Под резким ветром бьется лист летучий,
Как сумасшедший, впавший в буйный бред.
Рыдает гром глухими голосами,
Чуть вспыхнув, меркнет бледный свет зарниц,
Порой в очах, наполненных слезами,
Так слабый луч дрожит из-под ресниц.
Над степью тени призрачные встали,
Сырой туман окутал все вокруг,
И небо смолкло в мертвенной печали,
Бессильно солнце выронив из рук.
ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО
Осень, тучи, ветра свист.
Одному в дороге трудно!
Смолкли птицы, вянет лист -
Ах, как тихо, как безлюдно!
Словно смерть, идет зима.
Лес мой, где твои напевы,
Где твой шелест, полутьма,
Золотые нивы, где вы?
В поле стал пастись туман,
Бесприютный холод бродит.
В голой роще, вдоль полян
Веет скорбью. жизнь уходит.
Сердце, слышишь, как поток
По скалам грохочет грозно?
Был у нас немалый срок
Обсудить дела серьезно.
Сердце! Ты сожгло себя,
Всех терзало понемногу,
Многим верило, любя.
Что ж, пойдем-ка в путь-дорогу!
Я тебя на дальний путь
Спрячу вглубь, стяну потуже,
Чтоб ни ветру не дохнуть,
Не достать юварной стуже.
Молча мы в последний раз
Побредем тропой унылой.
Только дождь помянет нас
Да поплачет над могилой.
Вильям Вордсворт (1770-1850)
ПРОЩАЛЬНЫЙ СОНЕТ РЕКЕ ДАДДОН
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И все-тани мы смертны. - Да свершится!
Но не обижен, кто хоть малый срок
Своим трудом, служить потомству мог,
Кто и тогда, когда близка гробница,
Любовь, Надежду, Веру - все сберег.
Не выше ль он, чем смертным это мнится!
От редактора
С переводами В.Левика я познакомился в студенчестве, разыскивая в киосках и вырезая из “Литературной газеты” его нечастые публикации - переводы из Бодлера, Верлена, Гейне... Все переводческие работы, помеченные его именем, казались волшебными. Испытал подлинное счастье, когда смог приобрести томик его переводов “Из европейских поэтов”. В студенчестве же, помню, меня поразило высочайшее качество переводов в книге Переца Маркиша в серии “Библиотека поэта”, в котором титульным редактором - своеобразным знаком качества - являлся В.В.Левик.
Счастье познакомиться с ним лично наступило в январе 1978 г., когда его друзья и ученики, поэты и переводчики Юрий Денисов и Элла Шапиро уговорили Левика приехать в гости на литературный вечер в моей квартире. Но Левик не был бы Левиком, если бы он приехал без щедрого подарка: он привез к нам патриарха русской изящной словесности, незабвенного Сергея Васильевича Шервинского (которому еще Макс Волошин посвятил сонет), и это был ослепительный вечер, где Шервинский читал молодым свои стихи, а Левик мудро председательствовал. Потом Вильгельм Вениаминович дважды с неизменным блеском выступал у нас со своими переводами, а однажды (с неменьшим успехом!) с литературной композицией “Из европейских поэтов” выступила в его присутствии его жена Татьяна Васильевна Брагина. Общение с ним всегда было очень эмоциональным, искренним и радостным.
Весной 1981 г. мне удалось провести его большой гонорарный вечер в своем институте - ИИЕТ АН СССР. Слушатели моих вечеров завалили его цветами и словами благодарности. Он мог быть рассеянным. Он позвонил поздно вечером и потерянно спросил: а где же конверт? Я напомнил, что он на моих глазах положил его в другой конверт, а потом в третий конверт, который поместил в портфель в среднее отделение. Он очень вежливо попросил минуточку, порылся в своем портфеле и через некоторое время радостным голосом школьника прокричал: “Нашел!” Его волнение не удивительно - гонорар был крупным.
Другой памятный случай произошел в моей квартире. Он увидел на стене репродукцию “Лев Толстой за столом” работы Л.О.Пастернака и с неожиданным интересом к закрытым в те годы деталям частной жизни поинтересовался, что-то слабо припоминая, откуда она у меня. Я сказал, что мне ее передала из Оксфорда Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер. Хорошо, а через кого она получена в Москве? Я получил ее у Стеллы Самойловны Адельсон, которую Л.О.Пастернак замечательно нарисовал в ее девичьи годы. Он сказал, что все абсолютно совпадает, но только пропущено еще одно лицо, которое привезло этот подарок из Оксфорда в Москву, а именно - он сам, Вильгельм Вениаминович Левик!
И он со смехом рассказал, что поверг в изумление Л.Л.Пастернак-Слейтер, когда сказал ей, что не знает в Москве никакого Кривомазова Сашу, но просьбу ее готов выполнить и передаст репродукцию через других знакомых. Он заразительно засмеялся тому, что все хорошо кончилось, и лукаво спросил, не нужно ли мне что-то передать в Оксфорд? Он знает одного надежного гонца... - и он снова захохотал...
Несколько раз мы заговаривали с ним о его переводах, и я видел, что ему действительно интересно мое молодое мнение неспециалиста. Так, я задал ему вопрос, который меня волновал еще в студенческие годы: не считает ли он, что его вариант в “Альбатросе” Бодлера “Грубо кинут на палубу, жертва насилья...” слабее по звуку, чем лежащий рядом действительно грубый и мощный “Грубо брошен на палубу...”, и потом, как можно грубо кинуть - ведь этот глагол несет оттенок женственности и аристократизма, а у Бодлера мы видим сначала резкое снижение лексики на забавах пьяных матросов для крутого взлета в конце стихотворения?
Он пошевелил несколько раз своими крупными губами, как если бы пробовал что-то слабо-слабо-слабо кислое, и, наклонив лобастую голову, медленно пропустил тот и другой варианты через свои серебряные сторожевые колокольчики, а потом уверенно отверг слово брошен: “Нет, это хуже...”
Однако он счел возможным поощрить мой интерес к лаборатории словотворчества и сам пригласил меня однажды (запись в моей книжке 1982 г. на числах от 25 до 27 июля) на заседание руководимого им переводческого семинара, которое происходило, по моим слабым воспоминаниям, в каком-то полуподвальном помещении, от которого остались несколько строк в этой книжке:
- В.Левик о плохих стихах, слабых - жалея, вяло: “Ну что ж, хорошие стихи, красивые...”
- оппозиция: осветит-осветит; пепел падает клубком;
- его шутка “В Воронеж как-то бог послал кусочек сыра”;
- Марина Вирта о переводе - “провинция души”;
- а также моя фотография лучезарного мэтра в окружении присутствовавших в тот день учеников... (Мне было приятно увидеть среди его учеников своих друзей - Юлию Сульповар и Сергея Таска).
Я его много фотографировал, часто бывал при его жизни у него в доме, храню его фотографии, дивные надписи и записи его голоса, один раз мы встретились в троллейбусе (между театрами Пушкинским и новым МХАТом - он ехал в свою мастерскую), и я его сфотографировал тут же на бульваре - в осеннем пальто и темно-синем берете (на фотографии - черном).
Потом мое мастерство выросло, но снять его вновь - по-настоящему! - мне уже не довелось.
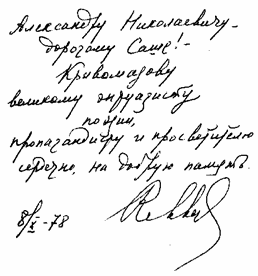
Он выработал у себя замечательный почерк - крылатый, летящий, завораживающий почерк художника-каллиграфа. Теплые слова, да еще написанные таким почерком, да еще от него самого - такой щедрый дар делал вас счастливым надолго!
Он был тих, мудр, скромен в жизни.
В воспоминаниях об Арсении Тарковском (ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 1997, № 5) я написал, какой личной драмой для меня была неожиданная смерть Вильгельма Вениаминовича. Думаю, все его читатели - его вечные благодарные должники
...Всем нам его очень не хватает...
А.Н.Кривомазов